На плотине
На плотине
Отрывки из повести «Была печаль»
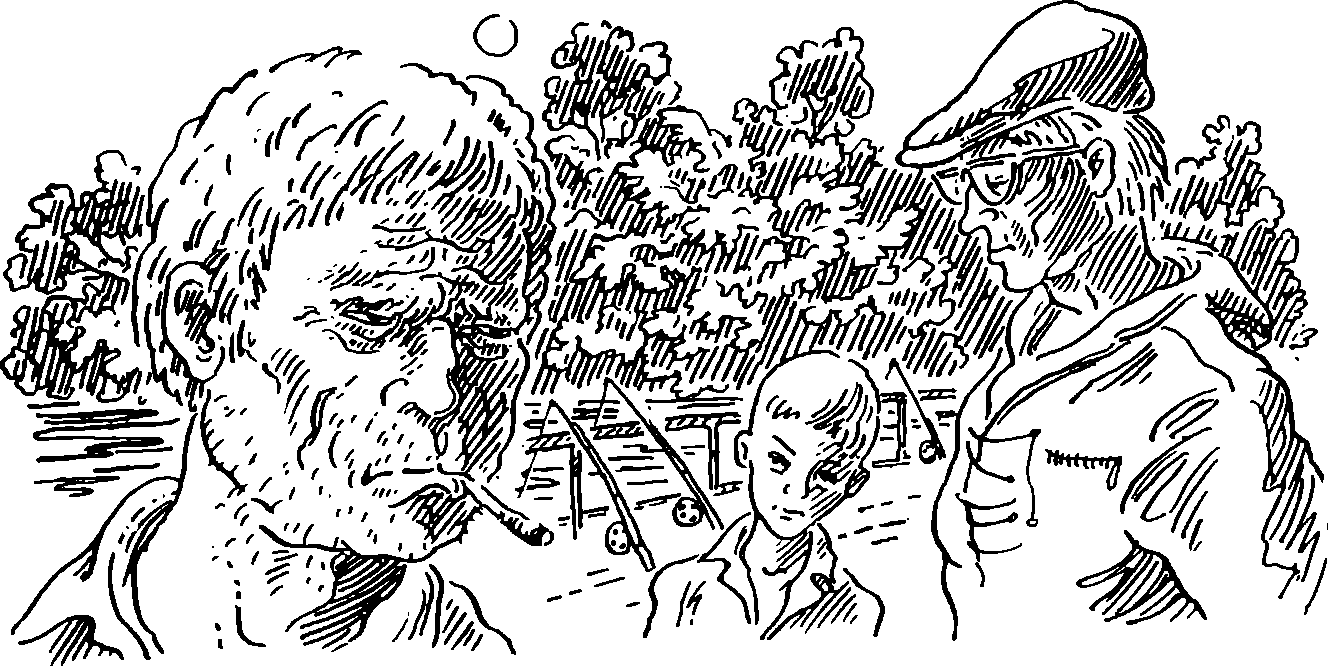
С детства мечтал Алексей невидимкой прокрасться на плотину, обловиться и пройти по деревне с куканом, которого и не удержать на весу; нести его за спиной, как мешок, ощущая и тяжесть и живое, пригасающее шевеление матерых щук и судаков. И хотя с годами его отношение к плотине менялось - от почитания и младенческой гордости, что вот каков их край особенный, с караульщиками и запреткой, до глухой и тоскливой обиды под- ростка-рыболова, а потом и обдуманной юношеской ненависти, - во всякую пору жизни его дразнила мечта: случится, он наловит так, что хоть раздавай рыбу.
Как-то к вечеру на шлюз прикатил «Москвич», двигался он по ухабистому берегу напролом, со звоном и грохотом, и остановился резко перед стреноженным к ночи шлюзовским мерином. Алешу окликнул седой темнолицый мужчина в штормовке и белой тенниске над тесными джинсами. Смуглые, побитые оспой щеки мужчины серебрились на закатном солнце суточной щетиной. Он приподнял кукан, увешанный ершами густо, едва ли не торчком, и показал их женщине за рулем. «Никак ерш не угомонится, - сказал мальчик с недетской серьезностью. - Никому подойти не дает, любую наживку хватает. Удочку надо длинную, в три колена, на глубине лопырь берет, подлещик по-вашему…» - «И по-нашему - лопырь. - Мужчина надел очки и хозяйским, уверенным взглядом оглядел шлюз, контору, диспетчерскую, уже светившую на бугре сплошным в две стены окном, ворота шлюза, легкую, без бетона, плотину и дремотный в этот час пойменный берег. - Ты мне кузнечиков не раздобудешь?» - спросил тихо, чтобы не слышала женщина за рулем: она строго и недовольно смотрела перед собой, не снимая рук с баранки. «Чиликанов?» - переспросил Алеша. «Ну! Успеешь, пока солнце?» - Алеша кивнул. «Сюда натолкаешь». - Он протянул два порожних спичечных коробка и вынул из кармана детский, в радужные полоски носок. «Лягушат прихвати по дороге. Серые, знаешь? А подошел голавль?» Мальчик склонил ухо к худенькому плечу: о голавле пока не слыхать, хотя и пора, самое их время; в июле, чаще среди жаркой, безветренной ночи, голавль появлялся вдруг густо, косяками, и держался иной год до осенних холодов. Алешу смутили холодно-равнодушный взгляд женщины и мысль, что серые лягушата кричат, когда их распинают на тройнике. Приезжий взял у него кривую удочку и кукан. «Чиликанам головы придави, а то они друг дружку жрать начнут».
Алеша жестоко обстрекал руки крапивой, чиликаны с сухой, мембранной звонкостью скребли в тесных коробках. На береговых склонах, где сочились неслышные роднички, он набрал лягушат, и, сбившись в комок, они тихо лежали в носке. Приезжий приложил к маленькому, будто не мужскому уху коробок и достал из кармана штормовки металлический рубль, но Алеша денег не взял - мать не разрешала, - а попросил крючков и свинцовых дробинок, и мужчина конфузливо засуетился, открыл жестяную коробку, сожалея, что крючки все крупные, а точнее, тройники и грузила спиннинговые, удочный поплавок утонет. «А хочешь со мной на плотину? - осенило его. - Тебя, небось, туда не пускают?» - «He-а! Не пускают и сегодня не пустят». - «Со мной пойдешь или у матери отпросишься?» - «Я скоро, тут недалеко!» - крикнул Алеша, хватая свой потерявший вдруг всякую ценность улов. «Ждать не буду, - предупредил приезжий. - Скажешь охране, что к инженеру Клементьеву». Алеша завертелся на месте от страха, что все сорвется. «Сегодня Дуся Рысцова караулит, ей скажите, она знает - Капустиной сын, Алеша Капустин, а ее - Дуся Рысцова…» Инженер уходил к мостику на воротах шлюза с двумя спинингами, подсаком и портфелем, шел чужой, потеряв интерес к Алеше и пролетавшим мимо уха заурядным деревенским именам.
Взбираясь прямиком в гору, хватаясь за крапиву, кусты татарника и высокую, обсыпавшую его семенами траву, Алеша вспомнил имя «Клементьев»: в прошлое предзимье деревня только о нем и говорила. В конце октября по большой осенней воде ударил мороз. Плотина здесь не бетонная, не каменной, литой стеной перегородившая реку, а живая и чуткая; по-живому, как медведь в берлогу, ложилась она к ледоставу под воду, на самое дно. Там, упираясь в две тяжелые металлические балки, протянувшиеся от берега к берегу, стояли на подшипниках, в метре одна от другой, ребром к речному напору, стальные, сужавшиеся кверху фермы. Их вязали вверху стяжками, болтами, тонкими рельсами узкоколейки для электрического крана, и с его помощью между фермами, в пазы, ярусами, от самого дна загоняли сотни дубовых щитов - они стеной вставали во весь размах Оки, подрагивая под ее могучим напором. Другой такой плотины в России нет, так утверждали все, так говорила и не позволявшая себе пустой похвалы мать.
Дощатый настил плотины уже сняли, электрический кран повыдергивал из пазов дубовые щиты, осталось убрать колею для крана, развинтить болты и начать укладку стальных ферм на дно, начиная с первой; ее кладут в «печку» - просторную камеру внутри сложенного из каменных блоков правобережного устоя плотины. Ждали хорошей осени, а тут подоспели праздничные будни, начальник шлюза новый, он еще здесь не зимовал, понадеялся, что раз Ока свободно течет между фермами, то и беды нет, пусть люди отгуляют праздники. А шуга густела, тыкалась в фермы, в одну ночь неровным серым рубцом легла поперек реки, ледяной вал рос на глазах, принимал на себя новую шугу, грузно нависал над плотиной. Ока разлилась поверху, как в щедрый паводок, скрылся под водой канал шлюза, электростанцию - бетонную, глухую, без окон крепостицу с геометрическими воротами - охлестывали волны. Вода на верхнем бьефе все прибывала, ледяная громада тяжелела тысячетонно, грозила раздавить фермы. Командированный министерством Клементьев сутки медлил, искал, как сбросить воду в обход плотины, и принял смелое решение: взрывом порушил ведущую к плотине земляную дамбу на левом берегу, в проран ринулась вода, новая река, узкая, но неукротимая, бешеная, ринулась вниз рядом с Окой, подмывая матерый берег, неся на бугристой, будто окаменевшей спине не только дубовые щиты и караульную будку, но и звенья узкоколейки и железную тележку электрического крана. О Клементьеве говорили долго: как он стоял поодаль от людей, сняв с седой головы мерлушковую, пирожком, шапку, и помахивал ею, будто горячил, подгонял события, хотя никак уже не мог на них повлиять…
Сумерки густели над Окой, от истомившихся зноем лугов и пойменных озер вставал туман, смягчая багряное буйство заката. На нижних воротах шлюза, вглядываясь в темную воду канала, стояла Евдокия Рысцова, и Алеша приближался к ней без надежды, с упавшим сердцем, ощутив сиротскую свою незащищенность и то, как нелепо топырят, тяжелят его карманы прихваченные из дому яблоки и ломоть хлеба. Рубчатый стальной щиток переходного мостика неуверенно клацнул под его ступней, и, затосковав, Алеша остановился. «Иди! - окликнул его низкий, казалось не женский, голос Рысцовой. - Ждут тебя».
Тысячи раз озирал он эти места. Все в запретке было вроде такое же, как и у шлюза; светлые песчаные тропы в низкорослой траве, дощатые мостки через отводной канал электростанции, хрупкая на вид, вся шелестящая плотина, знакомые люди; все было продолжением шлюзовых служб, все то же и все не то, все исполнено особого значения. От ранней весны, когда сходили полые воды, до ледостава здесь лежала запретка. Она и зимой незримо стерегла Оку: перехлестнувшие ее пешеходные тропы и наезженные трактором дороги, по которым из-за реки везли сено, дрова и строевой лес, а в заречье - почту и кино, тянулись к узвозам, обходили плотину. В памятливом зрачке рыбака, в самой крови, будто навсегда обозначалась она, ее кордон, ее граничные буи, приметные и ночью, и в густой туман.
Инженер оставил Алешу на плотине сторожить спиннинг, ручкой заклиненный в одном из пазов настила. Леска круто падала вниз, пенопластовый, размером с сайку, поплавок дергало и мотало в бурунах, метрах в семи ниже плотины, левее, поодаль, стояли еще спиннинги на затворе, хозяева их отсиживались на каменном откосе, отгородившем от Оки бетонный узкий канал электростанции. Туда сошла и жена Клементьева в красной, яркой даже в сумерки куртке и в обуви, никогда не виданной Алешей: от легких красных сандалий под самые колени тянулись красные ремни, змеями перехлестывая высокие, тяжелые в икрах ноги. Двое шлюзовских кидали снасть коротко, прицельно, будто точно знали, где их поджидают судаки, и время от времени брали их буднично, словно безрадостно, неприметным рывком вынося рыбу на бетонную кромку откоса и прихватывая ее рукой у жабер. Один из них, механик Николай, хромой, в молодецких с проседью кудряшках, посадив рыбину на кукан и ополоснув руки, поднимался на устой и вытаскивал из бурлящей воды мелкоячеистую круглую медную сеточку на стропах. Случалось, и в ней бился судак или шальная, потерявшаяся к ночи в темных речных глубинах плотвичка, - механик совал их в дерматиновую, рваную, в налипшей чешуе сумку, подходил к Клементьеву, молча дожидался очередной сигареты, подергивал леску клементьевского спиннинга, говорил, что все у него толком, как надо, рыба будет, некуда ей деваться. И, когда механик шел по устью обратно, Алеше мучительно хотелось, чтобы он и теперь поднял сетку, хотелось испытать удачу, пусть и чужую, но механик до поры будто и думать забыл о сетке; он вприпрыжку спускался вниз, снова начинал свою охоту, и, только взяв судака, ополаскивал руки, и карабкался на устой, к сеточке, к сигарете приунывшего Клементьева.
Алеша не сразу привык к безбрежному разливу реки за спиной - она лежала позади, в полуметре, литая, как стекло густой темной варки, и будто вздымалась медленно и с угрозой. В этой угрюмой медлительности и темноте, в крадущихся усилиях потока, в его потаенной ярости и глубинной дрожи, которая вызывала ответное, напряженное содрогание плотины, чудились хитрость и умысел. Натолкнувшись на дубовую тонкую скорлупу щитов, пусть и скрепленных накрест полосами железа, река негодовала, удесятеряла натиск, плечом яростно била в плотину, говорила, что и сильный пловец, упав здесь, погибнет, распятый на щитах.
Каждый шорох и звук этой ночи, угасание воды с темнотой и ее колдовское воскрешение, когда взошла луна и река вспыхнула, таинственно озарясь, - все, чем дышала июльская полночь, запомнилось Алеше навсегда. При свете луны он увидел широкую плоскодонку, она двигалась от пойменного берега к ним, точно не чувствительная к пенистому, сердитому потоку. По-озерному неспешно погружались в воду весла, а начальник шлюзовой охраны Прохор Рысцов стоя работал большим, на подъемнике-вороте «пауком». Точные движения Рысцова, опадавшие с сетки серебристо-зеленые струи и брызги, их искристое свечение, пружинистые броски издали приметных рыб, лодка, скользящая без натуги, будто заговоренная от беснующейся реки, привлекли общее внимание. Плоскодонка утюжила пенопластовые спиннинговые поплавки, порой весло поддевало чью-то леску, и, поднятая из воды, она на миг вспыхивала светлой, косо летящей струной, и казалось, сквозь гул плотины доносится звон опадающих с нее капель. Случалось, Рысцов, склонясь к борту, обрезал чужую, помешавшую ему снасть.
Одному Клементьеву река не давала ничего, и мальчик испытал странное чувство вины - ведь река была его, Алеши, он родился на ней и жил; чиликанов в крапиве и серого лягушонка, которого Клементьев тайком посадил на тройник, отчаявшись дождаться поклевки на кузнечика, тоже нашел он, Алеша Капустин. На дно плоскодонки падали рыбы, чудилось, и на плотине слышны глухие, как в бубен, удары о просмоленное удилище; хромой механик уже трижды полоскал добычливые руки и выкурил три клементьевские сигареты, а инженер мрачно поигрывал снастью и негромко, чтобы никто не услышал, окликал Алешу: как там у него? Алеша терялся: поплавок дергался на струе, кончик спиннинга подрагивал, гнулся, мальчику чудилась рыба, огромная и хитрая, она уже на крючке, накололась, но не рвется, а только осторожно пробует снасть. Приподнявшись, Алеша подтягивал леску, но ладонь не ощущала обратного рывка, сопротивления, чужой, не подчиненной ему силы.
Только раз коротко затрещал затвор, спиннинг согнуло, повело и тут же выпрямило. Рыба сошла, но Алеша успел крикнуть: «Ударило!», и примчавшийся Клементьев вытащил помятого на снасточке лягушонка. Инженер бросился к Алеше, не поставив свой спиннинг на затвор, леску мигом размотало, поплавок снесло.к черным ряжам ниже электростанции. Теперь леска Клементьева мешала всем и отцепляли ее гуртом, кто-то сбегал на ряжи, толкал в воду тяжеленный багор, а механик немилосердно дергал леску и все нахваливал ее крепость, обещал, что и пудовая щука ее не оборвет, потом намотал леску на рукав и рванул, утешив Клементьева тем, что «не оборвешься - не поймаешь» и что «поплавок на месте - и то добро, теперь дело пойдет».
Чувство одиночества охватило Алешу, позади угрюмо стекленела залитая лунным светом вода, ниже плотины хищно заныривал «паук» Рысцова, вынося из глубины рыбу, а на устое механик Николай и Клементьев, присев на корточки, ладили новый поводок с грузилами и тройниками. Теперь Алеша точно виноват: не закричи он прежде времени, инженер не бросил бы свой спиннинг, не зацепился бы намертво за ряжи, не сидел спиной к нему, недовольный, отчужденный. Алеша подозревал, что говорят о нем: Клементьев кается, что взял его на плотину, а механик ругает его мать, Марию Капустину, бухгалтершу, вредную бабу, от которой нет житья людям. Механик, случалось, поколачивал жену, покорную, молчаливую Лушу, колхозного счетовода, и Капустина являлась в шлюз, к начальству искать на него управу.
Уйдя в невеселые мысли, Алеша не сразу услышал позади свистящий звук, а обернувшись в испуге, никого не увидел, только спиннинг часто гнуло дугой, хотя затвор молчал. Алеша понял: инженер больше не доверял ему, паникеру, и наглухо закрепил леску. На этот раз он не стал спешить, пригляделся, не нашел на воде поплавка, схватился за леску и отдернул руку: что-то сильное рвануло под водой снасть, и Алеша крикнул растерянно, по-детски: «Рыба!»
Вблизи стальных ферм, где вода билась врасхлест, бугрилась, вскипала бурунами, пятилась под плотину, бунтовал голавль - прошли годы, но такого красавца Капустин никогда больше не видывал ни на своем, ни на чужих куканах. Едва голавль мелькнул поверху, Клементьев решил: на плотину его не поднять, надо вести к берегу, но подоспел механик и велел тащить вверх. «Их у нас не вываживают. - Оказалось, что вести голавля к берегу - едва ли не оскорбление рыбацкой чести. - Голавль раз в году с тройника сойдет, и то не на Оке, а леска у тебя и сома выдержит». Механик и подхватил голавля, уверенно, как железной скобой, замкнул черными в ночи пальцами жаберные крышки, с хрустом вдавив их, и, припадая на ногу, понес добычу на устой.
Сюда сошлись все, хвалили инженера, говорили, что начало по чести, что он настоящий рыбак, не бегал, как иные, с места на место, дождался своей рыбы, намекали, что такое надо отметить: с одной поклевки взял три кило. Насчет трех килограммов льстили; в том, что накинули полкило, проскальзывало снисхождение к пришлому человеку; здесь в обычае скинуть на глазок граммов триста-пятьсот, небрежно поддеть ногой рыбину - мол, пустяк- дело, брали и поболе, а это так, ни то ни се.
Женщина, подобрав юбку, присела, трогала голавля светлыми пальцами, повела вокруг глаз, будто ласкала, засмеялась чему-то, поднялась веселая, отсердившаяся и прижала ладонь с влажными после рыбы пальцами к щеке мужа. «Это Алеша подсек, - великодушно объявил Клементьев. - Моя рыба впереди». Расщедрился и механик, кивнул на веревку, на опущенную под устой сетку и сказал: «Тащи, бухгалтер, посмотрим, какое у тебя счастье… Все, что там, твое!» Алеша поднял наверх небольшого судака и смолисто-черного извивавшегося змеей налима.
Привязывая кукан к железным перильцам канала электростанции, Алеша заметил неподалеку несколько тонких поводков, они свисали вяло, будто забытые. Он взялся за проволочный поводок, рука ощутила покорную, без рывков, тяжесть, и скоро из воды показалась большеротая морда сома. Он был один на кукане, стальна!я застежка держала его за нижнюю челюсть - он жил под водой со свободными жабрами у бетонной глухой стенки канала. По устою разведено еще пять таких поводков: два белобрюхих жереха, полупудовая донная щука, темная, кургузая, будто вырубленная из камня и покрывшаяся серо-зеленой слизью, и два безучастных, блеклых судака.
Жена Клементьева подтягивала к поверхности одиночных узников, наблюдая их обреченное шевеление, даже щука потеряла свое хищное упорство, только в глазах ее еще тлела непримиримость и злоба.
Механик сказал, что вся рыба Прошки Рысцова, ее никто не тронет, хоть передохни она, - за рыбой и караульщики смотрят, и любой из шлюзовских постоит за нее. Как-то исчез жерех, то ли сорвался, то ли уворовали, и солоно пришлось всем, кто в тот день оказался на плотине. «У него и на той стороне рыба, - доносил механик осмотрительно, будто даже и нахваливая Рысцова. - Он сетью берет, непорванную, у Рысцова на застежке рыба долго живет…» - «Он что, изучает их?» - допытывался инженер. «Ему интересно, - уважительно ответил Николай. - Бывает, начальство приедет, а рыба не клюет, все кругом пустые, один Рысцов в рыбаки выходит: шпиннинг в руки, полчаса в караульной будке отсидится и тащит зверей из запаса. Он у нас выше начальника шлюза: начальник что - инженер! - пошутил Николай, памятуя, что говорит с важным инженером. - Это прежде инженер в цене был: отец рассказывал, когда нашу плотину строили перед первой еще немецкой войной, тут двое инженеров было, француз и русский. Им не то что почет, на руках носили. Инженер в редкость был, как вепрь в степи, а нынче куда ни плюнь - он. Ты вот чужой, а на плотине - караульщик разрешил - и всего делов, не правда, что ли?» - «Правда! Правда!» - поспешно и будто с укором откликнулась Клементьева. «Он только что снасть мою обрубил, ты не приметил, а он обрубил». - «Я видел, - возразил Клементьев, - только не знал, чей спиннинг». - «Мой, мой шпиннинг! - В тоне механика досада мешалась с непостижимой гордостью: что ни говори, а жизнь, ее приметные события не обходили его. - Ему бы отцепить мои якорьки, а жаль времени, жаль! Якорьки-то чужие. Спасибо, поплавок оставил…» «И вы скажете ему?» - волнуясь, спросила женщина. «Стану я мелочиться! - Он усмехнулся. - Прошлый год к Сереге Прокимнову племянник из Ко- ломы приезжал. Он и прихватил его порыбачить. Серега у нас тоже ведь не… - механик опасливо перебрал в уме все привычные ему сравнения, не нашел подходящего и сказал: -…сменный диспетчер, он все чин по чину. А Прошка увидал чужого пацана - и по уху, в канал спихнул, в этот вот. - Николай показал на узкий канал электростанции. - Хорошо, там решетка, а то концы, в помол. Вгорячах мы в район звонили, в милицию, а приехала милиция, все слиняли: было, не было, никто не видел, никто не звонил. Один пацан уперся: на дне, говорит, мои очки лежат, можно проверить… Пацан городской, жестокий, в нем, можно сказать, деревенского прощения нету. Серега Прокимнов выручил: сам уронил, говорит, очки, а теперь к людям вяжешься». Механик будто радовался счастливому исходу, и Прокимнов был с ним заодно, нисколько не унижен этими воспоминаниями: улыбка играла в уголках его маленького самолюбивого рта с запекшимися, словно от постоянной жажды, губами, на темном вытянутом лице, с щеками, запавшими от потерянных зубов, в близко сидящих, неумных, но заносчиво-горделивых глазах: как ни ряди, а обманули милиционеров, погорячились было, а потом не дались, по своей воле все повернули: чего об очках печалиться, если голова цела!… «Он что, торгует рыбой?» - спросил Клементьев, стараясь не показать возникшей в нем заинтересованности. «Зачем торгует? - заступился за Рысцова Сергей Прокимнов. - У него рука всегда чистая, не поверишь, что она когда рыбу или деньги держала. - Он помолчал, колеблясь, продолжать ли восхваление старшего караульщика. - Прошлой осенью Рысцов плотину чуть не загубил, начальника выгнали, ему не то что шлюза, речного дебаркадера не видать, а Прошке все нипочем. Ты выручал нас, а не знаешь». - «Рысцов из охраны, его ли дело класть плотину?» - «Выходит, его! Помнишь начальника, Петухова? Он к нам в июне прислан, плотины отродясь не ставил и не клал, она одна такая в России, а все мудровал, порядки менять хотел: охрану, говорит, сниму, зачем она - дорого, и народ у нам сознательный. Прошка ему и прописал сознательность!» - «Как же он мог это сделать?» - все еще не верил Клементьев. «Уговорил, Рысцов покойника уговором возьмет. Вода, говорит, понизу идет, и ладно, у нас всегда так. А шуги на день-два, отойдет, еще и на солнышке погреемся. И за нас заступился, он у нас профорг: дай людям праздники отгулять». - «Почему же вы не сказали начальнику?!» - спросила женщина. «Без спросу в советчики чего лезть?» - пришел на помощь Прокимнову механик, не чувствуя за собой и малой вины. «Он, что же, молодой был, начальник?» - «Видел его твой Клементьев: телятина!» - «Как же вы могли!» - «Нам прогноз не говорят, - отвел упрек Прокимнов. - Кто знает, может, и к теплу повернет, солнышко каждому в охоту, а другой год и в декабре Ока не подо льдом…»
От караульной будки к ним приближался Яшка Воронок, инвалид без трех пальцев на левой руке, сменивший на посту Евдокию Рысцову. Он шел вдоль канала, шевеля на ходу чужие куканы. Плоскодонка причалила под электростанцией, никто не приметил, как понизу подкрался Рысцов, в калошах на босу ногу, в узких брючонках и застиранной пижамной куртке, будто прогуляться к ночи по нужде. Он вышел под яркий свет фонаря, достал из пижамного кармана сигарету и закурил от спички, разглядывая исподлобья Клементьева с женой и шлюзовский народ. «Здравствуйте! - кивнул он инженеру, а шлюзовским неожиданно по очереди сунул руку, будто давно не виделся с ними, а значит, и они не могли видеть его. - Ты чего здесь?» - строго спросил у Алеши. «Он с нами, - ответила Клементьева с вызовом. - Муж пригласил… взял с собой». Рысцов скучно посмотрел на нее, будто не сразу понял: «Стало быть, пригласил…» Лицо его в ровном шелковистом загаре не выразило ничего. Коротко остриженные волосы в лунной ночи казались седыми, а весь он далеким от суетных страстей. Рысцов присел у раздавшейся от рыбы сумки. «Твоя, что ли, Николай?» Механик кивнул. «Скоро всю рыбу переловишь: еще и на кукане у тебя». «И там сидит, - подтвердил механик. - Куда им деться, провод не леска, не обрубишь…» Рысцов взглянул на него карими, святыми глазами под детскими бровками и, склонясь к веревке, рванул из-под устоя сеточку. Пусто. «Вот моя удача, - посетовал он. - Все берут, а я - мимо. Поймали чего?» «Жду! - отрезал Клементьев. - Я вроде вас - не мастер». Что-то в тоне инженера насторожило Рысцова. «Что ж вы гостю хорошего места не уступили? - попрекнул он шлюзовских. - Вы всякий день ловите, а человеку выдался выходной…» «Мое место хорошее, - сказал Клементьев. - Браконьеры мешают». - «В запретке?» Рысцов встревожился, сигарета щелчком полетела в воду, он уставился на Воронка, ждал ответа, но откликнулся Клементьев: «Вы! На лодке с воротом, с браконьерской снатью». Рысцов не стал разубеждать инженера, он жалел его слепоту. «Кто орудовал? - спросил он. - Приезжий человек приметил, а вы?!» «Шуровали… - отозвался Прокимнов. - Разве разглядишь кто? То темно, то луна слепит… «Не разглядишь! - рассердился Рысцов. - Чего вам надо, вы усечете. Шпиннинг у тебя чуть шевельнется на плотине, а уж ты там». «Двое были, кто их знает» - сказал механик. «Лодку хоть разглядели? - Рысцов весьма натурально страдал от равнодушия шлюзовских. - Вы тут все лодки от Новоселок знаете, по уключине услышите, как она скрипнет». В шуму ее не слыхать, - ухмыльнулся механик и сказал твердо: - Не наши были, Рысцов, фулига- ны, они мне снасть обрубили…» - «А ты терпишь, Николай-угод- ник!» - «Иисус терпел и нам велел».
Алеша растерялся: Рысцов - фигура, для мальчишек особенно: главный караульщик, и мальчик разглядел его в плоскодонке, но теперь стал сомневаться. Прошка стоял домашний, печально отрешенный, в сухой курточке, и руки его сухие, несуетные. «Будет вам притворяться, Рысцов, - сказал Клементьев несвободным ртом, зубами прихватив кончик лески и затягивая петлю на цевье тройника. - Все вас видели, только не скажут. Остерегаются». - «Я им не начальство, бояться меня нечего. Они на шлюзе хозяева, а я их добро караулю. Любого спросите». «Они скажут, как же!» - возразил Клементьев: стена поднималась между ним и рыбаками, он ставил их в тупик, а этого люди не прощают. И Алеша смотрел на него с сожалением - не умом, сочувственным сердцем, опытом маленькой своей жизни он предчувствовал, что инженеру не одолеть Рысцова; в женщине он еще подозревал нечто непредвиденное, какую-то скрытую силу, а Клементьев проигрывал, хотя и был честен. «Шлюзовские меня угадали бы и в дождь, и в темень, - беззлобно твердил свое Рысцов. - Мы друг друга, как кобели, по запаху чуем, свои люди…» «Свои люди завсегда сочтутся», - сказал механик со чначспи.- м. предлагая и Клементьеву кончить канитель, приглашая и ею и компанию; и ты ведь свой, ты хоть и в чинах, а явился на плотину, куда доступ строго закрыт, значит, знаешь, что человек человеку не ровня, вот и живи по этому закону. Но Клементьев не внял резонам механика. «Мне свидетели не нужны, - сказал инженер. - Может, с берега они и не разглядели, а я все видел: и рыбу, и как вы чужую снасть обрезали». «Был бы я в лодке, - вздохнул Рысцов с сожалением, - я бы все шпиннинги обрубил, с плотины ловить запрещено»… - «А ведь стоят! И теперь стоят, и днем!» Выходило и вовсе нескладно: Рысцов оказывался для рыбаков отцом родным, Клементьев - недругом, Алеша почувствовал это остро, до тоскливого горестного сожаления. «Что мы - звери, не дать шлюзовским лавить?! Они кормятся плотиной… И вы не на богомолье ехали и не купаться к нам. Два шпиннинга у вас, обловитесь, куда рыбу девать? - Он простодушно улыбнулся, все еще предлагая мировую. - Дружкам гостинцы, не торговать же. И пацана с собой прихватили по прихоти, а караульщики уважили. По-другому нельзя, по-друго- му - жизнь затмится, толку в ней не останется…» Рысцов брал верх над инженером, а в глазах шлюзовских и вовсе уложил его на обе лопатки: не ими. эти порядки заведены, не им их и менять. «Они промолчат, видно, вы их крепко держите… - Жена Клементьева поднялась с грузовой тележки на рельсах узкоколейки. - Я вам все скажу… я никогда сюда не приеду…» Но инженер не дал ей говорить, велел идти в машину, назвал, как чужую, по имени-отчеству, и она ушла, задернув «молнию» куртки до подбородка, ушла с замкнутым, в свекольных пятнах лицом. Клементьев распекал Рысцова истово, громогласно, но пустым, потерявшим силу голосом, заглушая тоску и неминуемое поражение; он всласть накричится и уедет, а здесь все останется по-прежнему, и чем громче кричит Клементьев, тем очевиднее, что на плотине ему больше не бывать - собственная гордость не пустит.
Рысцов выслушал Клементьева, недоуменно, протестующе повел плечами, огляделся, наяву ли все это или померещилось, поманил пальцем Воронка и приказал негромко, будто никому другому и не полагалось слышать его, исключительно к службе относящиеся слова: «Развиднеется, гони пацана к чертовой матери! Сорвется ненароком, с нас шкуру спустят. Свидетелей не найдешь, умотают на машине с нашей рыбой».
Ждать рассвета не пришлось.
Вслед за Рысцовым растаяли в призрачно-голубой ночи и шлюзовские; уходили не прощаясь, быстро, принужденно, как перед черной грозой, когда над Окой кружат тучи, и посверкивает, погромыхивает, и в смятении прячутся рыбы и люди.
Под плотину подошел голавль, мерный, в полкило каждый, казалось, они жадно ищут в придонных струях одинокие теперь спиннинги Клементьева. Инженер сновал между устоем и Алешей, потом крикнул ему, чтобы тот сам повел голавля к берегу.
Алеша держал спиннинг двумя руками, рыба в тугом потоке казалась ему могучей, может, побольше первого голавля. Он неосторожно наклонил спиннинг, леска и удильник вытянулись в линию, неостановимо затрещал затвор, и леска вяло провисла, напугав Алешу, но длилось это мгновения, снова дрогнула и напряглась снасть, удильник затрясло еще сильнее. «Выбирай потихоньку!» - крикнул Клементьев, и Алеша стал мерно, потрескивая затвором, наматывать леску, чувствуя, что он и сильная, упрямая рыба двигаются теперь в шаг. Он подвел ее к устою и так рванул из воды, что она пролетела над его головой и, оглушенная ударом о бетон, сошла с тройника.
Еще у них хватало кузнечиков и лягушат, но рядом с Клементьевым лежал смотанный спиннинг и только что вытянутый из воды кукан: десяток голавлей - все, кроме первого, которому механик Николай помял жабры, - топырили плавники, слабо вздымали словно потяжелевшие жаберные крышки. Во всем был конец рыбалки: в отрешенном взгляде Клементьева, в собранном спиннинге и поднятом из канала кукане.
Снова появилась жена инженера. Она не откликнулась мужу, пошла по плотине, не оглядываясь, к пойменному берегу. Клементьев смотрел в ясную удлиненную лунным светом даль плотины, на мещерское темное заречье, с черно-зеленой зубчатой кромкой леса, с невидимыми, спящими, открытыми только душе человеческой деревнями и селами. Острый глаз Алеши угадывал всю дремлющую в июльской ночи пойму, стадо, сбившееся в загоне, толоку, казавшуюся бестравной, вытоптанной до последнего стебелька, сумеречные липовые рощи поодаль. А Клементьев будто только теперь, в недобром безлюдье, встревоженный уходом жены, вполне ощутил, куда занесла его судьба, как прекрасен мир вокруг, опечалился и глухими часами азарта, и тем, что этой ночью он навсегда распрощался со спасенной им плотиной.
Клементьева скоро вернулась, прошла к поводкам, на которых в темной воде коротали ночь пленники Рысцова, подняла на устой жереха, открыла застежку и сбросила белобрюхую рыбу в реку. «У него и на той стороне были запасы», - сказала она. Только щуку Клементьева не решилась трогать одна, подозвала Алешу, и вдвоем они справились с неподатливой стальной застежкой. «Вера! - запоздало встревожился Клементьев. - Он скажет, что мы украли». - «Напишешь ему, извинишься, - язвительно ответила она. - Ничего он не скажет!» - «Он не может думать иначе». - «Ах, какая беда, что он подумает о тебе! Если тебя это тревожит, то вот свидетель: Алеша скажет, что это я отпустила рыбу». - «Ему лучше помолчать, - заметил Клементьев. - Лучше сказать, что я украл, увез; ему здесь жить». - «Вы не крали! - воскликнул мальчик в душевном смятении. - Я щуку отпустил». - «Всю рыбу освободила я: помни это, Алеша». - «Нет, - упрямо сказал он. - Щуку мы вместе. Щуку вместе…» Клементьева облегченно рассмеялась: упорство мальчика пришлось ей по сердцу. «Пусти и своих, Володя, - попросила она. - Живых отпусти!» Клементьев молчал, жена склонилась было к голавлям, но увидела глаза Алеши, полные горького недоумения, обиды за Клементьева, за попранное дело, которым они занимались честно, и отпустила. Двух голавлей инженер снял и перевязал их на кукан Алеши.
Домой Алеша собрался короткой дорогой, по крутояру, к спящей деревне, но Клементьев не отпустил его, сказал, что довезут до порога; даже Рысцов не решался прогнать Алешу до рассвета, неужто они хуже Рысцова. «Мне пешком близко, - отказывался Алеша: было неловко, что жена инженера повезет его через деревню к избе, - а машиной в объезд». «Отец кем работает?» - спросил Клементьев уже на ходу, повернувшись к нему с переднего сиденья. «Его на войне убили». - «Ты не помнишь его?» - «Хорошо помню: мне четвертый год шел». Почему-то всегда ему было важно знать самому и чтобы другие знали, что отца он помнит хорошо. «Ты, оказывается, старый! - удивился Клементьев. - Я думал, лет десять». - «Я в шестой перешел». - «А я, брат, тебя, как пацана, за чиликанами гонял… Чего тебя караульщик не любит?» - «Никого он не любит, только себя». «Не бойся ты их, Алеша», - сказала Клементьева. - «А я не боюсь; они у плотины, а мы - на реке».
Подъехали к избе на высоком фундаменте, с темными купами яблонь позади, Клементьева развернула машину, свет фар ударил в окна. «Заночуем, Вера? - спросил Клементьев неуверенно. - Прямо в саду. И сеновал, верно, есть». «Горница чистая, - обрадовался Алеша. - На сеновале одна пыль, мы скотины не держим.» - «Поехали!» - Клементьева сидела, устало привалясь к рулю.
Инженер вышел из машины с жестяной коробкой, взял из нее блесну с тройником, и блесны потянулись гроздью в половину коробки. «Тебе, держи!» Алеша молча принял подарок, а Клементьев осторожно вынул из машины одноручный спиннинг и сказал тихо, чтобы не услышала жена: «Без спиннинга и блесны ни к чему. Бери. Блесны в неделю оборвешь, в реке оставишь, а спиннинг надолго; будешь нас вспоминать». Оба вздрогнули от резкого, как окрик, гудка, и Клементьев распрощался с Алешей.
Далеко на повороте мелькнули красные огоньки и скрылись, затих в ночи гул мотора. Алеша все стоял у калитки с дарами, о которых и мечтать нр мог, стоял, пока мать не загремела запорами на крыльце.
Подростком Алеша пристрастился к охоте на щук. Ниже плотины на блесну только и попадались щуки, и то редко, в неделю раз. Шлюзовские рыбаки, издали поглядывая на парня (потом отпускного студента, а еще позже - здешнего учителя Алексея Капустина), часами мотавшего и мотавшего на катушку леску, бредущего домой с пустым спиннингом и сухим, топырившим карман, куканом, потешались над ним. Редкие дни, когда он переправлялся в деревню паромом, на виду у всех, со щучкой - а то и парой! - в глазах шлюзовских дела не меняли: случайная, глупая добыча словно для того и шла к нему, чтобы каторжный труд целой недели без отклика, без поклевки открылся во всей своей скудности. В запретке всегдашний хмельной праздник, звон и трепет в струну натянутых жилок; по-бычьи упираются усатые черные твари - без багра не взять! - жерех оповещает о себе одним, сбивающим с ног ударом, тяжело волочится по струям и ошеломленно замирает, едва жабры обожжет воздух; живой молнией мечется в глубине подсеченная щука, сражается до конца, не сдается и на песке - норовит ухватить зубастой пастью и пассатижи, и пальцы, - там всякий час добыча, промысел, а долгая охота, охота не наверняка, только в глухую непогоду.
У Алексея всегда трудная, недобычливая охота в пустыне, где, кажется, и промышлять некого, где притихшая, скрытная, немая вода безмолвствует, мягко колышется в песчаных заводях, в камышах и речной куге, ничего не обещая рыбаку. Алексей полюбил свою одинокую охоту, как никто, знал он дно Оки на большом протяжении: подводные террасы, обрывы, ямы, коряги, полузамытые песком сваи, чернодуб, затонувшие, развалившиеся лодки, мотки затянутой илом проволоки, сети, утопленные когда-то ночью при внезапном налете рыбнадзора и не отысканные потом «кошкой». В любом месте он мог закинуть блесну, наперед зная, где можно дать снасти уйти глубоко, даже и на дно, а где нужно вздернуть удильник и завертеть катушку быстро, минуя корягу или каменную гряду. Единственная его рыбалка на плотине с Клементьевым, который никогда больше не приезжал к ним, вспоминалась Алексею спустя годы дурной, не настоящей, нарушающей целостность его речной жизни, хотя той ночью, протянув матери тяжеленный кукан, он едва не заплакал от счастья и запоздалой истовой благодарности к укатившим в машине людям.
‹№ 43, 1983)
Борис Петров
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК