24 дня в раю
24 дня в раю
Отрывки из повести
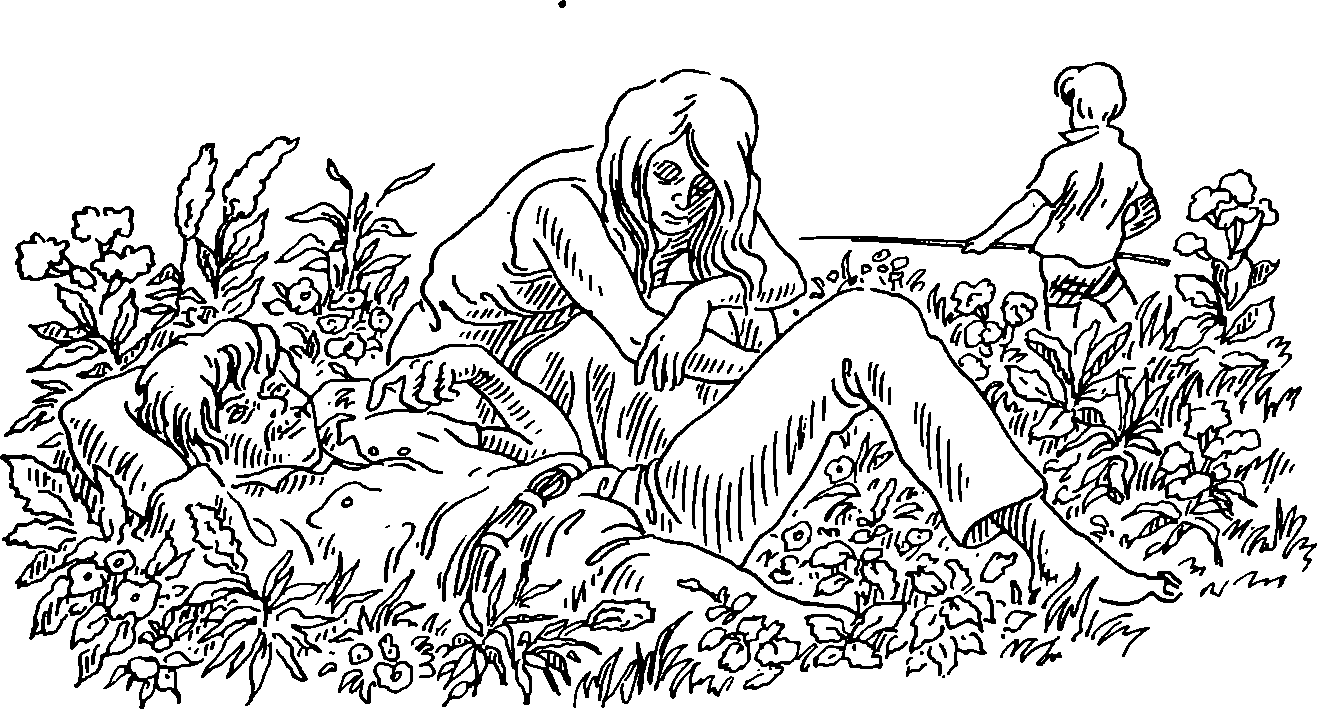
Это Лида первая сказала, что мы живем в раю. Мы поехали на закате по Шевакалу, я перестал грести, положил весло поперек лодки, стало так тихо, что слышно, как капли падают с весла. Вода была зеленая, и гладкая, и густая, как масло. А тепла, словно парное молоко, которым поит нас вечером Шура, подоив Морозку. Листья лежали на воде, крепкие, как подносы. На коротких шеях торчали круглые и плотные головы кувшинок. Стрекоза остановилась и вибрировала в воздухе рядом с нами. Долгоногий водомер скользил по воде, как Христос.
- Ну рай, просто рай, - сказала Лида, - двадцать четыре дня в раю.
Она сидела лицом ко мне на средней скамье, опустив обе руки по бортам лодки в воду. Комары стояли над ее головой, словно нимб. Розовое небо плавало в озере, облака вытянулись по небосводу, как Млечный путь. Десятый час был в начале, а солнце все горело над лесом…
Вообще-то мы собирались провести свой отпуск в Карелии, а попали в Японию. Каких названий нет в России! В девятьсот пятом году какие-то дальние мужики пришли в эти среднерусские места, построились, их назвали (из-за японской войны) японцами. Так и осталось. Деревня была богатая, разрослась, мужики корчевали лес, сеяли травы в пойме. В тридцатом кое-кого раскулачили и выселили; потом закрыли торфоразработку поблизости; потом война - деревня оскудела. Остался всего один дом, дяди Максима.
Мы живем не в самой Японии - от нас до нее два километра, - а на Шишке, на пасеке. Железная дорога недалеко, и ночью слышно, как проходит по мосту через Суру поезд; но до ближайшей деревни Соколовки - семь километров, до Репьевки - десять. В приемнике у Ивана давно сели батарейки, света на пасеке, конечно, нет, почта до Шишки не доходит. Чем не рай?
Стоят на бугре дом, хлев, ульи, пониже, в огороде, банька, вот и все. Позади лес, впереди простор: озеро, луга, потом Сура, за Сурою опять леса. Райские кущи.
Шевакал и Сура богаты рыбой, за Шевакалом в пойме есть еще полузаросшее озеро Травное, по которому еле проберешься на лодке, но уж зато там самые лини, по килограмму и больше. В Шевакале водятся ондатры и бобры. Вечером от дома, сверху, видно бывает, как ондатра режет воду, словно перископ. Дед Антон стреляет зверьков: больно много рыбы они поедают, к тому же ондатру в закупку можно сдать: первого сорта шкурка - рубль, второго - восемьдесят копеек.
Дед Антон каждый вечер отправляется ставить и проверять сети, к нему ездят за рыбой со станции, сам Луцков приезжает (о Луцкове речь впереди), и нам всем чуть не каждый день бывает на уху.
Дед Антон сильно кривоног, суховат, мелкорослый, ему за семьдесят, но, как он сам признается, ничего у него пока не болит, уши слышат, глаза видят. Он всегда побрит чисто, у него усы седые и завитки седые из-под картуза. Он суетлив, услужлив, говорок у него мягонький. Уютный, милый дед и улыбается хорошо. Сидит вечером на крылечке, вырезает себе мундштучок ореховый, говорит, что будет сигаретку надвое резать и курить. Жена у него умерла несколько лет назад, сын где-то на Дальнем Востоке, для Шуры с Иваном он тоже как бы член семьи. Маленький Вовка говрит: «Он у нас сиротиночка, Ильич-то…»
Всего хозяйства у деда Антона - сети, тулуп, ружье и чайник. Чайник настоящий рыбацкий, видавший виды. Сроду болтается на рогатине он над костром, сроду его не чистили, и так славно пахнет рекой и дымом кипяток из него! Чаю тут не знают, дед Антон запаривает в чайнике лычку черемуховую или шиповник. Шура, когда самовар ставит, тоже запускает туда шиповнику.
Но дед хитроват, приходится ему хитрить с рыбкой: кому дать, кому отказать. Где-то в потайных местах на озере стоят у него садки, куда он непременно припрячет часть улова: карасей получше, плотвичку покрупней, а то и налима.
Вчера принес он хорошую щуку и карасей с десяток. Лида стала жарить на костре карасей в сметане, вкусно было чертовски, но никому, кроме нас с нею, новое блюдо не понравилось: кисло, а в рыбе хороша сладость.
Вовка натаскал целое ведро ракушек из озера, лазал без штанов в тине у самого берега, орал от радости, отполаскивал ракушку от грязи и кидал в ведро. Иван увидел и загорелся:
- Сейчас зажарим!
И вот собрались у костра, помыли еще раз ракушки - они крупные, крупнее морских мидий, некоторые чуть не в руку Вовкину, - повесили в ведре над костром. Ракушки закипят, раскроются, вылезут, тогда их надо почистить немного и жарить можно. Пока ракушки кипят, мы рассказываем про устриц, «слегка обрызнутых лимоном», как Пушкин писал, а Иван, не слушая, нам в ответ с возбуждением говорит:
- Да у них мясо лучше, чем у рака, рыбье мясо-то, и вкус как у рыбы! Мы, бывало-то, в голодные годы, всей деревней их ели, бывало, и не найдешь уж в озере раковинки-то, рад бы, да не найдешь. Я вот их, ей-богу, люблю, мне и рыбы не надо!
Ракушки прокипели, воду слили. Иван, Валёна и Лида сели вокруг ведра чистить их. Перламутровые изнутри раковины бросали тут же в траву. Отрезали какие-то темные желудочки; мякоть ракушек и по виду и на ощупь сделалась, как белая резина. Пахли они тиной. Иван все продолжал говорить, как вкусны ракушки и сколько их пришлось когда-то поесть.
- Быть в Японии, - сказала Лида, - и ракушек не попробовать?
Вовка притащил сковородку. Шура скрепя сердце дала масла. Начали жарить. Моллюски сжимались и желтели от жара.
Я попробовал, разжевать это можно было с трудом, все так же пахло тиной. Я собрался с силами и сказал, что мне это не по вкусу. Шура ходила вокруг сковородки, посмеивалась. Она так и не попробовала, не отведала японского блюда. Вовка, Иван и Лида ели втроем. Мы сидели и смотрели на них с сочувствием. Лида в конце концов не выдержала, схватила с тарелки вилкой кусочек требушины, стоявшей рядом (к обеду были щи с требухой), съела и облегченно дыхание перевела.
Лодок у Ивана и деда Антона две: красная и маленькая. На красной можно уехать впятером, хотя на вид кажется, что и троих не увезет. Она плоскодонная, с широкой кормой и скошенными бортами, так что похожа как бы на пол-лодки. Но она что-то рассохлась совсем: Шевакал переедешь, и уже набирает воды по щиколотку, сидеть нельзя.
Сначала я не умел грести одним веслом. Вовка меня учил. Как-то зазвал он нас утром на рыбалку, выехали мы, я пересел на корму, попытался грести - не выходит. Весло вибрирует, лодка разворачивается все время в одну сторону. Лида глядит испуганно, вцепившись в борта. Вовка смеется. Так и пришлось снова уступать ему место. Вовка взял в руки короткое, вроде лопатки, весло, и лодка пошла легко, быстро: он вел ее среди тростника и кувшинок лихо, как гондольер. Выехали потом на середину, размотали удочки, Вовка вытащил банку с червями в капроновом чулке, сам насадил червей на крючки, сам вывел лодку на те места, где рыба должна брать. Целый час глядели мы на поплавки, но хоть бы кто клюнул!
- Айдате на Суру тогда, там должна быть! - сказал Вовка.
Мы пристали к другому берегу, вышли, отправились лугом к
Суре.
- Не спеши, Вовка, давай гулять!
- Можно, куда нам!
Лида шла босиком, пела песню и плела на ходу венок из клевера. Мы с Вовкой рвали и ели коневник: очищали зубами толстые стебли и жевали всласть. Я рассказывал ему, какая Москва, во всякую мою паузу он торопился спрашивать:
- Что ж, и лесу нету у вас? А пчелы-то есть?
По его вопросам я мог догадаться, что понятие о Москве складывается у него весьма причудливое: если бы попросить его нарисовать Москву, то вышла бы, должно быть, Соколовка, набитая красными автобусами, кучей людей, вроде нас с Лидой, а под землей еще поезд идет, и везде свет горит.
В свои восемь лет Вовка умеет стрелять из отцовского ружья, знает всякую рыбу, птицу, деревья, помогает на пасеке, знает, зачем отец к овцам барана из деревни приводит, и много других подобных вещей, которые знают обычно деревенские дети. Но в кино Вовка еще не был никогда, телефона не видел; я нарисовал ему военный корабль, он не мог сказать, что это. Вот мороженое он ел, знает, Луцков мороженое делает, все дети теперь его пробовали.
Мы шли вспаханным полем, уже подсохшим и пыльным.
- Посеяно небось, а мы топчем, - сказал Вовка. Он раскраснелся от жары, под мышкой нес охапку коневника и шел теперь позади, устал. Я рассказал ему, что поля нарочно притаптывают: если прикатано, то зерно теснее сойдется с землей, скорее набухнет и прорастет, а так может попасть между комочков в воздушную ямку и пролежать долго. Вовка подумал и согласился: - Похоже, верно говоришь.
Мы вышли на высокий и заросший берег Суры, пробирались долго сквозь высокую крапиву, пока сыскали спуск и песок внизу. Сура текла желтая, глинистая и полноводная. Стрижи носились над нею с пчелиной скоростью. Мы разделись, улеглись на песочке и ели опять коневник. Вовка чистил его ножом и угощал:
- Это тебе, тетя Лида, а это тебе.
Удить мы не стали.
Когда вернулись в Шевакалу, разомлевшие от солнца и воздуха, наша красная лодка насочила в себя столько воды, что минут двадцать вычерпывали, никак вычерпать не могли. Вовка сказал, что потонем, пожалуй, разделся до трусов и нам велел раздеться, но ничего - переехали.
Все-таки с тех пор мы на красной лодке не ездим, а берем маленькую. Это прелесть что за лодка! Она только на двоих: легка, как перо, рукой станешь грести - и то идет, слушается. А грести одним веслом ловко - и весло и руль сразу. Я научился и гоняю теперь, как на байдарке. Вовка глядит с одобрением и не говорит ничего, не поправляет - значит, все в порядке.
Приехал любезный Луцков, привез нам репудин от комаров (Шура говорит «кумары») и бадминтон. Все засуетилось, пришло в движение. Луцков со всеми поговорил, всех обласкал.
Дед Антон, загребая кривыми ногами, торопливо сбегал к озеру, и появились лини и щука на уху, Иван стал чистить рыбу, приговаривая:
- Сейчас, Анатолий Бенедиктович, сейчас, ушицу-то мы можем, что уж тут…
Луцков толст, весел, оживлен, на нем парусиновый пиджак и соломенная шляпа, на пальце крутит ключ от машины - у него «Москвич» на высоком шасси, с передней ведущей осью, бегает не хуже «козликов» райкомовских по любым дорогам. Отчество Луцкова Венедиктович, но никто его выговорить никак не может. Шура даже произносить не решается - не вышло бы как неприлично. Говорят, Луцков был еще много толще, чем теперь, да и сам он признается, что вот занялся спортом, легче стало. Каждое утро часовая зарядка, вечером два часа бадминтон, зимой лыжи, диета. Ему сорок пять лет, но выглядит он, несмотря на то что толст, лет на десять моложе. У него молодая жена, в старом своем, отцовском доме он поставил белую газовую плиту, сделал котельную, ванную (привез из Москвы плитку кафельную), гараж. Детей у него нет, он целиком погружен в бурную свою деятельность, он преуспевает, он доволен.
Заведует Луцков местным промкомбинатом, делает колбасу и мороженое, крепленое вино и конфеты, печет хлеб и пряники, шьет трусы и рукавицы. Все переходящие знамена, грамоты и премии - у Луцкова, причем премии делятся справедливо между всеми работниками: сторожам и уборщицам хоть по три рубля, но дадут тоже, когда все получают премии. Луцков уже двадцать лет на этой работе, на одном месте, его все знают, и он всех знает. Приглашали работать в область, в Москву, он отказался. О нем говорят и хорошее и плохое, называют его великим комбинатором, но все знают, что Луцков не жулик, не вор, не взяточник. Он построил новые и улучшил старые цехи, чистота - это его больное место; теперь он увлечен строительством винзавода. Рассказывают, что особенно охотно и много помогает он многосемейным. Из окрестных деревень на комбинат сдают свиней и телок, сливки и молоко, промкомбинатовские грузовики летают по деревням, и лихие луцковские эмиссары скупают яйца для мороженого. Между прочим, мороженое очень вкусное, желтенькое, крупитчатое, похоже на домашнее, как в детстве.
Пока Шура, Иван и дед Антон суетятся с ухой, варят ее в ведре на костре, мы, собрав вокруг всех ребят, играем в бадминтон. Луцков сбросил пиджак и шляпу, пузо вывалилось из рубахи, он летает по лужайке, лихо отбивает волан, игриво пикируется с Лидой. Ребята в восторге от игры, они никогда ее не видывали. Луцков тоже доволен, что опять ему все удается, опять он на высоте…
Уха готова. Снова мы садимся все вокруг одной миски. Луцков глядит на нас с Лидой чуть удивленно: мол, вот так и едите? Иван подкладывает Луцкову рыбку и потчует, уже чуть заплетаясь языком, но говоря все равно громко, с протестом:
- Да вот, линька-то, лёньку-то, Анатолий Бенедиктович, такой ведь рыбки, как у нас, нету нигде…
- Да что ж ловите мало? - спрашивает Луцков и глядит на Ильича.
Дед Антон суетливо головой машет, ухой поперхнулся, ложку отложил, усы обтирает.
- Да ведь это… Анатолий Бен… это… как, значит, сетя-то давеча того, уперли трактористы сетя-то, Анатолий… это… уперли, совсем уперли, вот Ванька знат…
- Забрали, Анатолий Бенедиктович, - гудит Иван, - начисто
все!
- Ну дам я вам сеть-то, выпишу! - говорит Луцков, хотя не очень, видно, верит старику. Начинается долгий разговор о том, кто бы это мог украсть да чьих рук дело.
Надо сказать еще, что Луцков - гроза всех рыбаков местных. Все окрестные водоемы и сама Сура взяты Луцковым в аренду. Хочешь рыбачить, промышлять рыбкой - иди к Луцкову, он разрешит, будешь ловить, а рыбу сдавать в промкомбинат. Вот так-то.
Луцков почти не пьет с нами, ест тоже мало, ему уже пора, сегодня концерт в клубе (клуб тоже он построил), областные артисты гастролируют, надо быть, надо встретить, принять, небольшой ужин организовать. Со всеми лучше быть в ладу, в хороших отношениях, так жить приятнее и легче. Пусть Луцкова добром вспоминают.
Мы тоже благодарим растроганно Луцкова за бадминтон, за репудин, за внимание. Иван просит потихоньку, нельзя ли, мол, дрожжец, Анатолий Бенедиктович, и Луцков говорит:
- Дам, конечно. Приезжай.
Деду Антону он пишет от руки бумажку размашистым красивым почерком, ставит дату, острую подпись с тысячью завитушек; дед Антон бормочет чуть не со слезой в голосе, прячет бумагу глубоко в недра своих рубах и фуфаек: завтра поедет за сетями.
Луцков садится в машину, машет нам рукой, мы тоже, стоя толпой, машем и прощаемся. Он уезжает, и мы остаемся взбудораженные, обласканные, довольные тем, что все так хорошо, славно, и еще долго говорим, что, мол, ай да Луцков, ай да человек! Ну бог, просто бог! Толстый, добрый, веселый Саваоф…
Счастье - это когда каждый день счастье… Плыть рано утром по озеру, лежать с травинкой в зубах на спине и глядеть на облака сквозь сосны, привыкнуть и почувствовать родство с людьми…
(№ 33, 1973)
Владимир Безносиков
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК